Страницы истории
Маловская история, или Бунт студентов в Императорском Московском университете при Николае I.
Былое и думы (отрывок)
А. И. Герцен

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним.
- Сколько у вас профессоров в отделении? — спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории.
- Без Малова девять, — отвечал студент.
Вот этот-то профессор, которого надобно было вычесть для того, чтоб осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентеров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас, объявил клич идти войной на Малова, несколько человек пошли со мной, когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас.
У всех студентов на лицах был написан один страх, ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание, началось шарканье.
- Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами, - заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью, и буря поднялась — свист, шиканье, крик: «Вон его, вон его, pereat!» Малов, бледный, как полотно, сделал отчаянное усилие овладеть шумом и не мог; студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям; аудитория — за ним, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно, на улице дело получило совсем иной характер; но будто есть на свете молодые люди 17-18 лет, которые думают об этом.
Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было неглупо. Легко может быть, что в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порок наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота.
Воспоминания из моей студенческой жизни
Я. И. Костенецкий
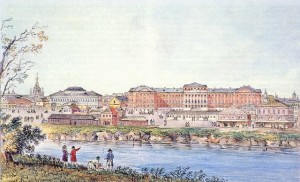
Теперь я приступлю к описание одного, очень замечательного университетского происшествия, которое наделало тогда много шуму, не только в университете, но даже в обществе, стало в последствии известно под названием Маловской истории, происшествие, которое в настоящее время назвали бы демонстрацией, но тогда термин этот еще не был известен. Это само по себе, впрочем, ничтожное происшествие обнаруживало, однако ж, уже зарождавшийся корпоративный дух студентов и общий протест их против бездарности и невежества некоторых профессоров.
Профессор Малов, как я уже писал выше, был олицетворенная глупость и ничтожество; но как он был всегда деликатен с нами даже до унижения, то мы терпеливо переносили его глупость. В это время он, из экстраординарных профессоров, был сделан ординарным, и как у глупых людей honores mutant mores, то и Малов возгордился новым своим званием, и из кроткого и деликатного вдруг сделался строгим и грубым. В случае шума на его лекциях, он не только уже не просил нас униженно, как прежде, перестать шуметь, но стал грозить нам и требовать повелительно от нас тишины. Сначала, это нас сильно озадачило: мы не могли понять причины такой перемены, но не обращали на его важничанье никакого внимания и нисколько не боялись его угроз. Но однажды, когда мы, по обыкновенно, начали шуметь на его лекции и не унимались от его строгих требований тишины, он вышел из терпения и забылся до того, что обругал мальчишками и ушел с лекции. Негодование студентов за такое оскорбление было страшное. Такая брань от кого бы то ни было показалась бы нам очень обидною, тем боле от такого осла, которого мы только и терпели за его снисходительность. Все студенты ходили взволнованные по аудитории, кричали, как смел такой дурак, как Малов, так оскорблять студентов, и ругали его всячески. Но весь этот шум и гам, вероятно, кончился бы ничем, если бы не нашелся коновод, который дал бы желанное направлено этому движению, и этим коноводом явился я.
По моим неоднократным противудействиям дурным профессорам, студенты смотрели на меня как на человека, который не сносить оскорблений, и поэтому все обиженные дерзостью Малова начали сходиться ко мне и жаловаться мне на оскорбление, как бы ожидая от меня отмщения, и от этого я, как бы невольно, должен был принять на себя предлагаемую мне роль. Я ее принял и вот как устроил эту демонстрацию. Подходит, например, ко мне Топорнин и с сильным гневом высказывает свое огорчение. «Ну, что ж, говорю я ему, я также этим сильно оскорблен! Давай на следующую лекцию прогоним Малова.» — «Да что ж мы можем сделать только вдвоем?» — Да ты только скажи, согласен ли ты на это?» — «Согласен.» — «Ну, и хорошо!»
То же самое я говорил Каменскому, и когда он согласился, тогда я, подозвав Топорнина, сказал им обоим: Ну, вот уже нас трое согласных прогнать с лекции Малова. Теперь разойдемся по аудитории, и каждый из нас должен секретно пригласить по десяти человек также согласных на, это, и тогда поговорим, что дальше делать. Мы разошлись. Профессора, которому в это время следовало читать лекцию, не было; чрез полчаса мы опять сошлись, и каждый — из нас имел уже десять товарищей, готовых действовать вместе с нами. В нашей аудитории, как я уже описывал, было три отделения впереди закрытых досками скамеек, и мы согласились, чтобы, в следующую Маловскую лекцию, каждый из нас со своими товарищами занял одно отделение: Топорнин — левый фланг, Каменский — центр, а я — правый фланг, первое от входа в аудитории отделение, где и разозлись бы по разным скамейкам и местам. Потом, когда явится Малов и начнет читать лекции, то сидеть сначала смирно; а за пять минуть до исхода, часа лекции начинать шаркать по полу ногами и ко переставать уже, что бы он ни говорил нам.
Вот в чем и должна была состоять вся наша грозная демонстрация. Более решительно ничего не предпринималось, и ежели случилось несколько иначе, то это уже была не наша вина: И как сравним ее с теперешними студенческими демонстрациями, то она является самой невинной детской шалостью, над которой благоразумный профессор только бы посмеялся и нас же еще сконфузил бы. Но как Малов был решительно глуп, то из этой ничтожной шалости вышла, наконец, довольно важная и занимательная история. Удивляюсь, как наши Лазари, которые без сомнения знали о нашем замысле, не донесли об нем Малову; а знай он об этом, и не приди на следующую лекцию, предприятие наше на этот раз само собой рушилось бы, а потом мы охладели бы и раздумали. Но Лазари или в самом деле не донесли Малову, или же он, хотя и знал об этом, но по своему высокомерию, пренебрег этой опасностью. Между тем слух о нашем намерении сделать скандал Малову распространился и между студентами других факультетов, особливо в словесном факультете, где у нас было много хороших товарищей, которые нам очень сочувствовали и обещали свою помощь; и ненависть к Малову вообще всех студентов, а в особенности необыкновенность такого единодушного действия студентов политического факультета, никогда до сих пор не бывалого между ними, возбудили всеобщий интерес и любопытство.
Настал желанный день. Мы все, сговорившиеся, как условились, так и расселись по отделениям скамеек. Является Малов; все встали, но никто из Лазарей не выскочил с места для поклонения ему. Он важно сел на кафедру, то есть на небольшое возвышение со столом и креслом и начал читать лекцию. Тишина царствовала глубокая, как на море перед бурей; только входная в аудиторию дверь часто отворялась, и в нее беспрестанно потихоньку входили студенты других отделений, которые и садились на скамейках моего фланга, как ближайших к двери. Из словесного факультета пришли, сколько помню, Антонович, Почека, Оболенский, князь Оболенский, князь Гагарин, Закревский, Огарев; из математического Герцен, Диомид Пассек, Носков и проч. Не помню теперь, о чем была лекция, но я слушал ее внимательно. Через полчаса или более по содержанию лекции мне казалось, что вот, вот Малов скоро ее кончит, между тем как до часу много еще оставалось времени, и мне вдруг пришло на мысль: ну что ежели Малов кончит лекцию раньше, нежели за пять минут до своего часа, когда мы условились начинать шум, и уйдет из аудитории?.. ведь наше предприятие тогда не удастся. Будучи поражен этой мыслью, я тотчас же посылаю адъютанта своего Михаила Розенгейма к начальникам боевой армии Топорнину и Каменскому с предложением, что хотя еще далеко до условленных пяти минут, но надобно непременно начинать уже. Розенгейм, пробираясь сзади скамеек, возвратился ко мне и передал, что Топорнин ни за что не соглашается и что нужно так делать, как условились. Боясь, чтобы Малов не ушел с лекции прежде нашей демонстрации и увидевши, что от подошедших словесников армия моя значительно увеличилась, я решился действовать сам со своими собственными силами, хотя бы другие отряды меня и не поддерживали.
Я сидел на передней скамейке. Сначала, желая только сделать как бы пробу, я потихоньку шаркнул ногой по полу; но едва я это сделал, как сзади у меня за скамейками поднялось такое шарканье ногами, какого я уже и не ожидал. Малов изумился. Он перестал читать лекцию и прислушивался к шарканью; но как оно не ослабевало и продолжалось сильнее, то он обратился к нашему отделению и начал нам что-то говорить. Мы тотчас перестали, но за этим последовало шарканье на левом фланге, где вероятно добрые товарищи не выдержали и не послушались Топорнина. Малов обращается направо к студентам и начинает им говорить; но там мгновенно все умолкает, и начинается шум в центре. Малов обращается к центру; там перестают шаркать, и начинает опять шуметь правый фланг. Все это делалось как по команде. Малов видимо струсил. Сначала он грозил нам, а то вдруг смирился и начал петь перед нами Лазаря: «Ну что я вам, милостивые государи, сделал? говорил он. За что вы на меня сердитесь? Помилуйте меня! Извините меня, если я вас чем оскорбил: оставьте все это! Что мы не имели никакого другого намерения как только пошуметь и этим заставить Малова перед нами смириться и извиниться, это доказывается тем, что мягкие его слова и извиняющаяся и униженная его физиономия сильно на нас подействовали, и мы мгновенно перестали шуметь.
Если бы Малов после этого ушел с лекции, то без сомнения и конец был бы нашей демонстрации. Но его, как говорится, лукавый попутал. Видя нашу покорность, он возгордился своей над нами победой и вдруг, как какой черт подучил его, он, обращаясь к нам с насмешкой, сказал: Ну что ж вы, милостивые государи, перестали? Что же вы не продолжаете? Продолжайте!.. Эти слова его были искрой в порох. Едва он выговорил их, как все студенты вскочили с мест своих, начали ногами уже не шаркать, а колотить о передние доски скамеек, закричали на него: вон, вон!.. и пустили уже в него кто шапкой, а кто книжкой. Он стремглав бросился из аудитории, едва успел схватить свою шубу и шапку и побежал через двор на улицу. Тут вслед ему студенты кричали, атукали как на зайца, ругали его, и когда он выбежал на улицу, то полетели в него и камешки, и толпа далеко по Тверской улице провожала его с гиканьем, бранью и атуканьем как дикого зверя.
После такого серьезного уже скандала, несколько нас, человек десять из более ретивых и пылких участников, вечером, собрались в квартиру к студенту Почеке, и начали обсуждать, что нам теперь делать? Происшествие это уже до того озлобило нас против Малова, что мы решились заставить его совершенно оставить университет и, предполагая, что он на следующую лекцию опять явится в аудиторию, мы составили бумагу, в которой прописали все его нравственные и умственные недостатки и нанесенные им студентам обиды, за что требовали, чтобы он совершенно оставил университет и не являлся бы более на лекции, в противном случае грозили поступить с ним очень дурно, и кажется, угрожали даже его высечь! После этого, в час его лекции, эту бумагу положили в настольную книгу, в которой профессора, обыкновенно перед началом чтения лекции, записывали ее содержание, какая книга всегда лежала на профессорском столе и которую Малов развернув, тотчас бы увидев бумагу и, без сомнения, прочел бы ее. Чтобы этой бумаги не прочел кто-либо из студентов, не участвовавших в нашем заговоре, и не утащил бы ее или не уничтожил, мы все поочередно окружали стол и не допускали к нему никого из посторонних. Такое наше смелое поведение сильно озадачивало и пугало всех прочих студентов, которые, ничего не зная об нашем замысле, а между тем видя наши беспрестанные таинственные совещания, грозные лица и телодвижения: даже боялись нас, и этот наведенный нами страх был причиной, что даже самые приверженные к Малову Лазари не осмеливались ничего передавать ему об нас. Так грозно ждали мы Малова целый час: и, припоминая тогдашнюю нашу раздраженность и решительность, я думаю, что было бы ему очень дурно, если бы он явился на лекцию. Но он не явился.
По случаю этого события мы стали почти ежедневно собираться к Почеке для наших толков и рассуждений о дальнейших наших действиях: Давно уже это было, лет сорок тому назад, и поэтому не могу припомнить всех посетителей этих собраний. Кроме меня и Почеки были: Топорнин, Каменский, Антонович, Оболенский, Розенгейм, Ренегарт, Кольрейф, Огарев, и кажется, Герцен и проч., и что всего страннее, что на этих собраниях было больше студентов словесного факультета, нежели политического, до которого Маловское дело больше касалось. На этих собраниях, кроме толков об Маловском деле, мы рассуждали и о своем студенческом положении, о недостаточности собственного нашего образования и о невежестве наших профессоров, и у нас родилось было намерение, по примеру немцев, составить свои студенческие постоянные собрания, или, как теперь говорят, сходки, на которых бы студенты, во-первых, обменивались сведениями и идеями по разным научным предметам, читали бы ученые сочинения, писали бы и читали свои сочинения, а во-вторых, имели бы наблюдение и за поведением, как собственно своим, так и всех вообще студентов: стараться, чтобы все студенты вели себя как можно благороднее, и в сношениях между собой, и в сношениях с обществом, чтобы имя студента означало образованного, честного и благородного человека; в случае же какого-либо предосудительного поступка студента, делать ему товарищеские убеждения и предостережения. И при этом рождалось наме6рение и о пособии бедным студентам.
Здесь скажу, кстати, что в тогдашнее время не было у нас ни складчин, ни подписок в пользу бедных студентов; но был такой обычай, что кто только имел возможность, тот содержал других беднейших. Были такие богатые студенты, которые содержали по нескольку человек бедных, давая иным квартиру у себя, а другим нанимали. Некоторые принимали к себе на квартиру по одному товарищу (на целый год, иные только на месяц), который, на другой месяц, переходил к другому товарищу; иные давали у себя только стол. Но надобно сказать, что тогда бедные студенты даже и не очень нуждались в пособии товарищей, разве только в первый год поступления в университет, а потом они находили себе кондиции или за деньги, или за квартиру, и таким образом содержали сами себя. Проектируемые нами сходки, однако ж, не состоялись вследствие увлечения главных деятелей другими стремлениями, о которых будет рассказано ниже.
В то время решительно не было никакого надзора за студентами вне университета. Каждый нанимал себе квартиру где хотел, никто из начальства не знал ее и никогда в нее не заглядывал, да и начальства-то не было никакого. Был всего один инспектор своекоштных студентов, знаменитый Федор Иванович Чумаков, профессор механики в математическом факультете, вся деятельность которого заключалась только в том, что он изредка, во время лекции, войдет в аудиторию, и там, если увидит какого студента в цивильном платье, а не в форменном сюртуке или мундире, как требовалось, то, обыкновенно, подойдет к нему и скажет: «А, батенька, так вы-то в цивильном платье! Пожалуйте-ка в карцер, в карцер!» Но чтобы от него отделаться, стоило только ему сказать: «Помилуйте, г. профессор, я не студент! — «А, вы не студент! Ну, извините меня, извините!» — Тогда имели право посещать лекции все посторонние лица, которые, хотя и редко, но все же появлялись на студенческих скамьях, на лекциях хороших профессоров. Федор Иванович был близорук и подслеповат; он даже всегда носил над глазами зеленый, большой зонтик. Однажды он входит в математическую аудиторию во время лекции Павлова, осматривает студентов и замечает одного в цивильном платье. «А, батенька, пожалуйте-ка в карцер, в карцер!» — говорит Чумаков, подходит к этому лицу, берет его за лацкан фрака — и каково же было его изумление, когда он ощутил в руке своей Владимирский крест! Это был какой-то чиновник. — «Ах, милостивый государь, — заболтал, сконфузясь, Чумаков, — извините меня, извините! Я-то дурак, я-то дурак!» После этого случая он уже страшно боялся опять наткнуться на постороннее лицо, и студенты, хотя и часто ходили на лекции в цивильном платье, но никогда ни один за это, да и вообще за что бы то ни было, не сидел в карцере, которого даже для своекоштных студентов и не существовало. Вообще, ни инспектор, ни ректор, тоже знаменитый Двигубский, не знали в лицо студентов, и всегда было легко отделаться от их притязаний.
При нашей аудитории политического факультета была просторная передняя, где обыкновенно висели студенческие форменные сюртуки, которые студенты, придя в университет в цивильном платье, потом надевали и в них входили в аудиторию. Вне университета студенты никогда не носили форменного платья, не желая компрометировать иногда своего мундира, который казеннокоштные студенты, как люди бедные и не имевшие цивильного платья, иногда слишком марали на разных публичных местах. Да и правду сказать, тогда не было и надобности в каком-либо надзоре за своекоштными студентами. Вообще они вели жизнь уединенную, скромную и приличную, и никогда не было никаких скандалов вне университета. Тогда мы не знали ни карт, ни вина, редко посещали трактиры, и не было никаких, как теперь, ни пикников, ни partes du plaisir и проч. Москва имеет то преимущество перед другими университетскими городами, что студенты, будучи рассеяны по квартирам на огромном пространстве, редко сходятся межу собою большими группами вне университета, и в мое время студенты так были разъединены между собою, что вне университета они никогда не составляли никакой корпорации, даже и мало были знакомы между собой, кроме, разумеется, земляков или товарищей по гимназии. Но возвращусь к Маловской истории.
Покамест не было для нас еще никакой опасности, никого из нас не допрашивали, и не было никакого явного расследования. Но мы знали, что такое происшествие не может не иметь последствий, что Малов уже жаловался на студентов и что об нашем скандале производятся расспросы. Предполагая, что такого рода секретные сведения будут, без сомнения, неверны и для нас неблагоприятны, мы, на одном из Почекинских собраний, согласились написать письмо к попечителю университета, которым был тогда князь Сергей Михайлович Голицын, известный вельможа и любимец покойного государя Николая Павловича, в котором письме решились изложить все причины нашего неудовольствия к Малову и все наши против него действия, какое письмо и было поручено написать Антоновичу (о, странная игра судьбы, нынешнему попечителю Киевского университета!). Когда Антонович написал письмо и прочитал, мы все были довольны, переписали его, но не подписывали, вложили в конверт, запечатали грошем, и потом задали себе вопрос, как же его отправить. Тогда в Москве еще не было городской почты, и Антонович вызвался сам отнести его. И вот на другой день рано утром, закутавшись в шинель, он принес это письмо в дом князя Голицына и там отдал его какому-то, едва проснувшемуся лакею.
Письмо это было получено попечителем, и оно не только оправдало бы нас в глазах начальства, но могло бы повредить нам еще более самой Маловской демонстрации, как обнаружившее уже действие скопом, если бы Малов, к счастию нашему, сам не повредил своему делу. После сделанного ему скандала, вместо того, чтобы донести о таком поступке студентов своему университетскому начальству, он сделал донос шефу жандармов, в котором написал, что когда он начал читать лекцию о монархической власти, как о самом лучшем образе правления, то студенты, будучи недовольны такой его лекцией, сделали то-то и то-то. Государь, узнавши об этом, потребовал от Голицына сведения о таком происшествии и наказания виновных. Попечитель и все университетское начальство, будучи очень недовольным таким глупым и подлым поступком Малова и удостоверясь из журнала, что в тот день читана была лекция Маловым вовсе не о монархической власти, а кажется о брачном союзе, и тут-то, приняв во внимание и наше письмо к попечителю, в котором так ясно были выставлены все дурные качества Малова, донесли Государю, что действительно студенты произвели шум на лекции Малова, но что это вовсе не было какой-то политической манифестацией, а только выражением недовольства студентов к недостойному профессору за такие-то и такие его качества и поступки. Следствием этого было то, что Малова удалили из университета, с чем вместе он лишился преподавания уроков и в других учебных заведениях, за что он получал, как говорили, до двадцати тысяч ежегодного жалования, а виновников беспорядка было велено открыть и наказать.
Университетское начальство, разумеется, прежде всего обратилось к самому Малову, чтобы он назвал виновников сделанной ему обиды, и тут-то этот глупец еще раз проявил свою мудрость. Не заметивши лично никого из шумевших студентов, он в своей глупой башке сделал такой вывод: весь этот беспорядок сделали ленивцы, а такими он считал тех, которые редко ходили на его лекции, и, сделавши такое здравое умозаключение, он и назвал таких студентов; но когда их потом допрашивали, то они доказали, что они в то время даже и не были на лекции. Между прочим некоторые Лазари доносили ему на меня, как на главного виновника. «Нет, это быть не может, — отвечал Малов, — это прекрасный студент», и меня не поставил в своем обвинении, за что мне, впоследствии, было очень за него совестно: Такое разыскание виновных производилось несколько дней. Ежедневно призывали для допроса по нескольку студентов и совершенно невинных; те, разумеется, оправдывали только себя, но никого другого не обвиняли, и начальство наше было в большом затруднении, не находя виновников беспорядка. Между тем, мы все же собирались у Почеки, и тут-то, видя ясно, что начальство наше в этом деле совершенно приняло нашу сторону, но что оно поставлено в необходимость найти хоть кого-нибудь виновным, мы решились сами помочь ему в этом. Прежде всего, настоящие виновники беспорядка, я и другие, заявили, что мы пойдем в правление и объявим об нашей виновности; но друзья наши нас от этого удержали, представляя нам, что если мы это сделаем, то с нами, как с людьми не имеющими не связей, не родства, могут поступить очень строго, и мы сильно пострадаем (имелось ввиду, что нас могут отдать в солдаты), и как мы не противились такому совету, нас однако не допустили до самообвинения; а для этого вызвались четыре студента, люди богатые, с знатной родней и связями, которые поэтому были твердо уверены, что с ними ничего особенного не сделают и много, много, если их посадят в карцер. И на этом мы порешили. К сожалению моему, за давностию времени, ни я, ни Антонович, с которым мы часто говорим об этом времени, не можем вспомнить теперь всех доблестных юношей, с таким благородным самоотвержением взявших на себя чужую вину! Помню только Михаила Розенгейма, студента юридического факультета и моего хорошего приятеля. Не знаю, по родству ли, или по каким другим обстоятельствам, он был очень близок к тогдашнему Московскому главнокомандующему князю Голицыну. Другой студент был князь Андрей Оболенский, сын тогдашнего Калужского губернатора. Третьим был Герцен, как видно из воспоминаний г-жи Пассек. Не помню уже, каким образом они объявили о себе начальству; но кончилось все это тем, что этих четырех студентов велено было посадить на три или четыре дня в карцер.
Я уже говорил, что как своекоштные студенты никогда не попадались ни в каких проступках, то для них не существовало и карцера; а потому для наших четырех виновных очистили один номер в нижнем этаже университета, где их поместили и поставили у дверей солдата. Можно вообразить, с каким сочувствием и энтузиазмом отнеслись к этим четырем добровольным жертвам все прочие студенты! Во все время их заключения — это был постоянный пир в их карцере и праздник в университете. Как ни строг был наш экзекутор, который порол солдат за то, что они допускали к заключенным студентов, но студенты не щадили денег для их подкупа, и решительно день и ночь у заключенных всегда было по несколько товарищей; кушанья, вина, лакомств было в волю, и им не только не было скучно, но напротив, очень весело. Будучи не в состоянии противиться, наконец, и экзекутор и прочее начальство снисходительно смотрели на допущение к заключенным их товарищей. По окончании времени ареста, когда эти герои явились в университет, студенты приняли их восторженно, посадили на профессорские кресла, в которых торжественно, при криках ура, понесли их сначала в словесное отделение, оттуда по коридорам в юридическое и потом в математическое. Профессора в это время не видно было ни одного во всем университете.


